П.А. Марков "В Художественном театре. Книга завлита" (1976 г.) (Ч. 2)
Начало: часть 1
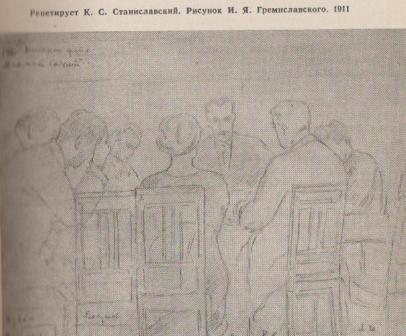 Они долго разговаривали в кабинете Владимира Ивановича – Немирович-Данченко, Марков и Василий Васильевич Лужский. И когда, прощаясь, Павел Александрович сказал, что он подумает о работе в МХАТ, Владимир Иванович ответил: «Что же думать? Ведь вы уже начали свою работу у нас».
Они долго разговаривали в кабинете Владимира Ивановича – Немирович-Данченко, Марков и Василий Васильевич Лужский. И когда, прощаясь, Павел Александрович сказал, что он подумает о работе в МХАТ, Владимир Иванович ответил: «Что же думать? Ведь вы уже начали свою работу у нас».
Таким образом, двадцативосьмилетний критик, ученый секретарь театральной секции Государственной академии художественных наук, недавний выпускник историко-филологического факультета МГУ, обладавший некоторым режиссерско-педагогическим опытом, весной 1925 года стал членом мхатовского коллектива.
Художественный театр издавна представлял собой довольно замкнутый организм, несколько ревниво и недоверчиво относившийся к «чужакам». Театр был спаян общим пониманием искусства, единством метода. Даже терминология, которой пользовались актеры, была не всегда ясна «непосвященным». С большим трудом обычно входили посторонние в этот крепко сцепленный изнутри мир. Актеры, например, получали право стать членами труппы только через несколько лет, после прохождения специального испытательного «искуса».
Марков быстро преодолел порог сближения. Он не приспосабливался, не подлаживался под своеобразный мхатовскин уклад, а просто оставался самим собой. Как-то незаметно, сразу, он общепризнанно стал «своим», мхатовцем по духу и смыслу всего, чем занимался, стал необходим театру. Может быть, этому помогло назначение его не только завлитом, но и председателем Репертуарио-художественной коллегии.
Сейчас можно только удивляться проницательности основателей театра, не побоявшихся возложить на молодого литератора, до сих пор стоявшего достаточно далеко от театрального производства со всеми его специфическими особенностями, ответственность за определение и практическую реализацию всей творческой линии МХАТ. Коллегии, состоявшей преимущественно из представителей молодого поколения, были предоставлены самые широкие права, вплоть до приема пьес, назначения режиссуры, распределения ролей, рассмотрения макетов, составления репертуарного плана театра.
«Старики» во главе с К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко именовались Высшим советом, в функции которого входили контроль и утверждение решений Коллегии. Этот далеко идущий шаг означал, е одной стороны, понимание неразделимости репертуарных, художественных и организационных проблем в жизни театра, а с другой, – стремительное выдвижение молодежи к непосредственному коллективному руководству МХАТ.
Впоследствии не раз менялись формы этого руководства, в зависимости от разных обстоятельств возникали и преобразовывались «девятки», «шестеренки», но неизменным оставался принцип коллегиального участия молодежи в управлении текущей жизнью МХАТ.
Коллегиальной была и работа по созданию нового репертуара.
В отличие от других театров, которые ориентировались преимущественно на профессиоиальных драматургов, МХАТ по инициативе Маркова сразу взял курс на привлечение прозаиков, пристально вглядывавшихся в советскую действительность, обладавших чувством драматизма, психологическим подходом к человеку. Так были приобщены к творчеству для театра и стали драматическими писателями Вс. Иванов, М. Булгаков, Л. Леонов, В. Катаев, Ю. Олеша.
За названиями первых современных спектаклей советского МХАТ, занимающими сейчас всего лишь по одной строчке в репертуарных таблицах театра, стоят дни и ночи лихорадочно напряженной и радостной общей работы. Ее участникам надо было обладать зорким глазом и тончайшим чутьем, чтобы в повести начинающего писателя, вышедшей еще в 1922 году, увидеть прообраз «триумфального», по определению Луначарского, спектакля «Бронепоезд 14-69», чтобы за многостраничной «Белой гвардией» разглядеть насыщенные конфликты и пронзительный лиризм «Дней Турбиных», чтобы в авторе неопубликованной повести «Унтиловск» угадать будущего самобытнейшего драматурга, создателя своей собственной, до сих пор еще полностью
мшзованиой театральной поэтики. Таких открытий в советской жизни МХАТ было немало. В каждое из них вложены муки, озарения и беззаветная преданность делу.
Театр поднял на гигантский труд по созданию современного репертуара свою режиссуру – В. В. Лужского, В. Г. Сахновского, И. Я. Судакова, Н. М. Горчакова, Б. И. Вершилова и других, а Марков слил воедино и направил совместные усилия.
Результаты их известны. С 1925 по 1931 год, то есть в последующие семь лет своей новой истории, МХАТ поставил девятнадцать спектаклей, из них одиннадцать пьес советских писателей. А всего за четверть века деятельности Маркова в литературной части осуществлено тридцать три произведения современных драматургов.
Конечно, в искусстве количественный критерий – далеко не лучший. Но добавим, что в числе авторов МХАТ в 30-40-е годы, кроме упомянутых выше, были А. Афиногенов, В. Киршон, А. Корнейчук, А. Крон, Н. Погодин, К. Симонов, А. Толстой. Таким образом, театр неуклонно расширял свою литературную базу и ориентировался на ведущие силы советской драматургии.
В некотором смысле работу литературной части можно уподобить айсбергу.
За видимой всем пьесой, поставленной в Художественном театре, скрывается внушителыюе подводное основание – десятки нереализованных замыслов, начинаний и готовых произведений. В их числе – переговоры и встречи с М. Горьким, В. Маяковским, А. Фадеевым, работа с Вс. Вишневским, И. Бабелем, К. Фединым, Е. Замятиным, К. Паустовским, В. Кавериным, неосуществленные постановки пьес И. Сельвинского, Н. Эрдмана, А. Малышкина.
В книге отразилось неустанное биение творческой мысли МХАТ, непрерывные поиски различных репертуарных идей, которые отнюдь не всегда завершались рождением спектакля, но которые всегда были продиктованы сознанием необходимости развития тех или иных тенденций его искусства. Окончательное принятие пьесы происходило после всестороннего взвешивания как ее идеологической и художественной ценности, так и возможностей ее наиболее полноценного актерского воплощения.
Книга П. А. Маркова с необычайной щедростью фиксирует повседневную практику литературной ласти МХАТ. Читатель найдет в ней и документы программного значения, и хроникальные материалы, изобилующие конкретными, ныне полузабытыми подробностями. Все они вместе взятые дают богатейшую картину репертуарной деятельности МХАТ.
Особое внимание хочется обратить на статью «Художественный театр и советская драматургия», где автор обосновывает репертуарную политику театра. В ней Марков, вслед за Станиславским и Немировичем-Данченко, утверждает Художественный театр как театр автора, исполненный истинного уважения к индивидуальности писателя, кругу его идей и образов, художественному почерку. Главным для МХАТ в его поисках автора было единство миросозерцания, сходство методов творчества, способность писателя открыть новые черты современного человека.
Протестуя всей своей деятельностью против унылого схематизма и назойливой прямолинейности, противопоказанных искусству МХАТ, угрожающих умертвить его живую душу, Марков выступает за драматургию глубокого внутреннего наполнения, вскрывающую реальные противоречия действительности. Именно в этом, а не во внешне эффектных поворотах сюжета видит он ту подлинную театральность, которая отличает мхатовское искусство в его лучших проявлениях.
Он всегда возражал против пьес вторичных, мнимо психологических, подделывающихся под привычный стиль МХАТ, а еще чаще – под его штампы. Из книги видно, как театр, не жалея усилий и не страшась потерь, настойчиво искал пьесы со своим особым образным миром и поэтической природой, требовавшие от него постижения этого мира и этой поэзии. Такие пьесы увлекали театр, обогащали новым видением жизни.
В свою очередь, МХАТ давал авторам знание сцены – не готовых приемов театрального ремесла, а законов органического творчества. Шел процесс взаимного оплодотворения театра и писателя. И А. Афиногенов от имени всех авторов МХАТ вправе был назвать его «творческим университетом драматурга». Одним из ведущих профессоров этого «университета», несомненно, был П. А. Марков.
Иногда заведующего литературной частью называют «драматургом» театра. В таком определении удачно выявлена главная обязанность каждого завлита – быть не простым «добытчиком» пьес, а полномочным представителем драматургии у себя в коллективе. Советская драматургия нашла в лице Маркова своего убежденного пропагандиста, словом и делом утверждавшего революционную современность на сцене МХАТ. Именно этим в первую очередь определяется его роль и значение в истории Художественного театра, о чем впрямую свидетельствует предалагаемая читателю книга.
И все же сборник далеко не ограничивается репертуарной жизнью МХАТ.
Осмысление пути своего театра составляет основу всей практической деятельности завлита. Поэтому вполне естественно, что второй тематический пласт книги широко охватывает как историю, так и методологию Художественного театра.
Обоснование необходимости постановки наиболее значительных современных и классических спектаклей МХАТ, отстаивание эстетических позиций труппы в борьбе с многочисленными оппонентами, размышления о путях и задачах театра, разработка идеологической платформы коллектива в поворотные моменты его художественного движения, создание портретов выдающихся мастеров театра, поражающих проникновением в самую сердцевину творчества, – не перечислить всего разнообразия проблем и жанров, содержащихся в сборнике.
О Художественном театре написана целая библиотека. Отсюда возникают требования к каждому, кто обращается к творчеству МХАТ. Казалось бы, трудно не повториться, трудно уйти от изложения известных истин. П. А. Маркову это удается в полной мере. Читатель несомненно увидит в книге много нового. Но даже тогда, когда речь идет о вещах знакомых, – все кажется узнанным впервые.
Здесь обнаруживает себя особый, марковский угол зрения.
Автор подходит к истории МХАТ не извне, как беспристрастный регистратор. Весь сборник проникнут эмоционально сдержанным чувством сопричастности делу Художественного театра. Это ощущение себя изнутри явления, позволяющее запечатлеть переживаемые события тут же, по свежему следу, не скрывая всех шероховатостей бурно текущего творческого процесса, состовляет примечательную черту книги.
Так возникает «эффект присутствия», не покидающий читателя ни на минуту. Автор ненавязчиво, но властно вводит нас в далекий и все же близкий мир повседневной жизни и трудов театра.
Не стоит думать, что существование Художественного театра в годы его расцвета было легким н безоблачным. Советский МХАТ знал ошибки и временные спады, паузы перед новым продвижением вперед. В книге рассказывается об этом с подкупающей откровенностью. Свидетельство тому – выстуления Маркова на собраниях труппы, где он открыто и прямо ведет разговор о недостатках и слабостях в работе театра. Было бы неверно отсюда делать какие-либо категорические выводы о несоответствии рожденных моментом оценок с последующим судом истории. Тут давало себя знать то, что принято называть трудностями роста и что тогда преодолевалось театром в его покупательном развитии.
