П.А. Марков "В Художественном театре. Книга завлита" (1976 г.) (Ч. 11)
Начало: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10
 Художественный театр пытался создать вокруг себя необходимое окружение современных русских драматургов. Идеологический руководитель театра Немирович-Данченко очень внимательно и заботливо относился ко всякому молодому дарованию в современной писательской среде. Театр включил в репертуар пьесы Найденова, Чирикова, Ярцева, написанные под явным влиянием приемов Художественного театра и драматургии Чехова.
Художественный театр пытался создать вокруг себя необходимое окружение современных русских драматургов. Идеологический руководитель театра Немирович-Данченко очень внимательно и заботливо относился ко всякому молодому дарованию в современной писательской среде. Театр включил в репертуар пьесы Найденова, Чирикова, Ярцева, написанные под явным влиянием приемов Художественного театра и драматургии Чехова.
Но ни Чириков, ни Найденов не внесли ничего нового в драматургическую форму, предложенную Чеховым. Они лишь повторяли ее в различных вариациях и, являясь его эпигонами, не развивали и не совершенствовали ее. Каждый из них вносил свою индивидуальную ноту, однако не столь звонкую, чтобы надолго заинтересовать зрителя или по-новому осветить жизнь. Эти пьесы не удержались в репертуаре Художественного театра. Внешний успех «Ивана Мироныча» Чирикова на первом представлении объяснялся злободневной наблюдательностью автора в его незатейливым юмором. Если Чехов за внешней незначительностью событий показывал значительных людей и значительные мысли, то Чириков среди незначительной жизни показывал и незначительных людей с такими же незначительными переживаниями. История провинциального учителя, подчинившего жизнь своей семьи размеренной цепи принятых правил, оставалась обличительной картиной нравов небольшого города, не поднимаясь до серьезных обобщений. Напротив, над Ярцевым в пьесе «У монастыря» тяготел дурно воспринятый «ибсенизм»; он писал о фальши брака как формы семейных отношений; подчиняя пьесу заранее принятой теме, он не облек ее в живую плоть. Влияние Ибсена сказалось в пьесе с самой дурной стороной. Ярцев философствовал без глубоких мыслей и без знания пьесы соединял «ибсенизм» с «чеховщиной». Двойное эпигонство не могло по-настоящему взволновать театр, и спектакль «У монастыря» не оставил следа в его развитии. Счастливее оказался Найденов с пьесой «Блудный сын». Она – и по дарованию автора, и по остро полемическим образам, и по драматургическим приемам – возвышалась над пьесами Ярцева и Чирикова, но, недоговоренная и незавершенная, гораздо больше обещала, чем давала. Все три постановки ничем не обогатили театр, тем более что появились после пьес Горького, открывшего театру области, не затронутые и Чеховым.
Горький вступил в драматургию по настоянию создатели Художественного театра и самого Чехова. Как драматург он рождался уже в атмосфере разразившейся практической борьбы за новые театральные формы и содержание. Он считал Художественный театр одним из значительнейших и прекраснейших явлений русской жизни. Советы Чехова и уговоры Немировича-Данченко не прошли для него бесследно – в короткий срок написал две пьесы. «Мещане» прозвучали более тускло, чем «На дне», во многом потому, что Художественный театр ожидал от Горького пьес, родственных его романтическим рассказам. Со всей силой приняв в ранней пьесе Горького осуждение мещанства как философского и социального явления, Художественный театр подробно рисовал жизнь мещан, борьбу поколоний и их взаимонепонимание. Он осуждал тяжкий уклад жизни, наполнив спектакль где нужно сарказмом, где нужно юмором, но не услышав горьковской патетики. Название и бытовая среда пьесы обманули театр. Из-за них он не различил в пьесе того, за что сам любил Горького. Первый спектакль «Мещан» в Петербурге и представления пьесы в Москве давали повод к революционным демонстрациям, но это были овации по адресу любимого писателя и любимого театра гораздо более, чем овации, направленные к самому спектаклю.
Спектакль «На дне» явился уже не только осознанием трагических противоречий окружающей жизни. Здесь театр получил то, чего он ждал от «Мещан»: и неведомый ранее быт, и не появлявшихся на сцене людей, и новые мысли, и главное, может быть, еще неосознанно для себя, ощущение протеста и зов к ломке жизни. Здесь театр услышал бунтующий оптимизм Горького, его веру в человека, его на первых порах анархический протест. Спектакль имел бурный успех. Зритель принял разрушительные идеи пьесы через новые образы и незнакомый быт, заставившие театр свежее, глубже понять действителыюсть.
Говоря о спектаклях Чехова и Горького, мы подходим к тому новому, что МХТ внес в театральное искусство и что объединило его репертуарную, режиссерскую, актерскую, декорационную форму.
Перечитывая рецензии, посвященные раннему периоду Художественного театра, постоянно наталкиваешься на определение в те времена дававшее ключ к разгадке обаяния его постановок. Рецензенты постоянно писали, что Художественный театр замечательно передавал «настроение» – и деревенской жизни, и провинциальной усадьбы, и горьковской ночлежки. Они же часто неодобрител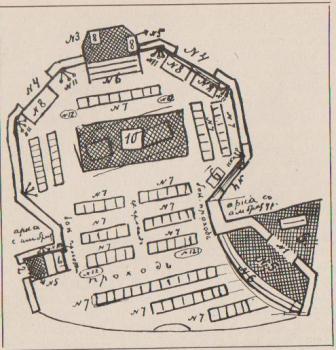 ьно указывали на ряд приемов, которые носили характер натуралистического подражания жизни. Между тем всех восхищавшее «настроение» не могло быть оторвано от этих натуралистических деталей. Например, знаменитый в истории театра, потрясавший зрителя финал «Дяди Вани» формировался из, казалось бы, чисто натуралистических приемов. В самом деле, уехали Серебряковы, в покинутой усадьбе наступает прерванная их летним приездом жизнь, привычная работа. Но самочувствие каждого из оставшихся уже не то, что в начале пьесы, – пронеслась короткая буря, люди изяменились, они наполнены совершенно иными чувствами. Сценически финал строился так: комната дяди Вани, слышен стук копыт отъезжающем экипажа, трещит сверчок, в углу вздыхает няня над вязаньем, отщелкивает на счетах дядя Ваня, тренькает на гитаре Вафля. На этом фоне Соня говорит свой монолог «Мы отдохнем…». Театр предлагал строго отобранные детали, создававшие в совокупности «настроение», атмосферу эпизода. Она была по существу музыкальна.
ьно указывали на ряд приемов, которые носили характер натуралистического подражания жизни. Между тем всех восхищавшее «настроение» не могло быть оторвано от этих натуралистических деталей. Например, знаменитый в истории театра, потрясавший зрителя финал «Дяди Вани» формировался из, казалось бы, чисто натуралистических приемов. В самом деле, уехали Серебряковы, в покинутой усадьбе наступает прерванная их летним приездом жизнь, привычная работа. Но самочувствие каждого из оставшихся уже не то, что в начале пьесы, – пронеслась короткая буря, люди изяменились, они наполнены совершенно иными чувствами. Сценически финал строился так: комната дяди Вани, слышен стук копыт отъезжающем экипажа, трещит сверчок, в углу вздыхает няня над вязаньем, отщелкивает на счетах дядя Ваня, тренькает на гитаре Вафля. На этом фоне Соня говорит свой монолог «Мы отдохнем…». Театр предлагал строго отобранные детали, создававшие в совокупности «настроение», атмосферу эпизода. Она была по существу музыкальна.
И прежде было известно, что музыка придает спектаклю глубину, но старый театр утверждал ее внешне, примитивно и прямолинейно. Он вводил в подобающих местах музыкальные номера, и даже сумасшедшая Офелия пела свой романс под аккомпанемент оркестра, как оперную арию. Художественный театр понял музыкальность сценического действия шире, чем ранее представлялось. Он увидел в ней своего рода способный внутренне объединить спектакль. Она выям не прямо и непосредственно, а гораздо более сложно соотносилась с действием. Особая музыкальность была присуща пьесам Чехова, обозначившего в ремарках звук лопнувшей струны или сорвавшейся бадьи, крик далекой птицы, музыку маленького еврейского оркестра в «Вишневом саде» или – в последнем акте «Трех сестер» – марш уходящего полка. В «Иванове» в вечереющем саду слышался неумолчный крик совы и звук виолончели. Художественный театр глубоко прочувствовал музыкальность чеховских пьес и искал ее не только в неожиданном сочетании переживаний действующих лиц с звуками окружавшего их мира, но и во внутреннем ритме исполнения. Да и в «На дне» Горького заключительная песня «Солнце всходит и заходит» стала неотъемлемою частью партитуры спектакля – и не только неразрывно слилась с бытом ночлежки и со всем действием, но и давала некоторый ключ к спектаклю; музыка в этих случаях приплюсовывала спектаклю некоторые обертона, нечто прямо отсутствовавшее в тексте, остававшееся словно не сформулированным и не высказанным.
Театр не мыслил течение действия вне этой музыкальной атмосферы, издаваемой и через построение мизансцены, и через ритм речи и движения, и через органическую связь непосредственного сценического действия с отзвуками окружающей его жизни. Эта музыкальность и выражавшие ее детали возникали органически. Тревожно тоскливый стук копыт в финале «Дяди Вани», как рассказывал Станиславский, был найден на одной из репетиций случайно, когда не ладился последний акт.
Если на первых порах в спектаклях иногда царила перегруженность великолепными характерными штрихами, если, постоянно ища материал в действительности, театр порой расточительно вносил его в спектакли, то виною был не принцип, а его применение. Не нужно забывать, что спектакли МХТ довольно долго сохраняли полемический характер, и здесь заключалась одна из причин того, что он перегружал свои представления нахлынувшими жизненными впечатлениями.
Но сами по себе подобные детали не могли обеспечить успех спектакля. «Царь Федор» и «Смерть Иоанна Грозного» осуществлялись, по сути, одними и теми же приемами, причем в «Смерти Иоанна Грозного» театр пользовался ими с гораздо большим совершенством. И тем не менее спектакль «Смерть Иоанна Грозного» быстро исчез со сцены, а «Царь Федор» сохранялся в течение десятилетий. В «Царе Федоре» Художественный театр, впервые использовав новые приемы, нашел ощущение полноты жизни. Театр передал великолепный рассвет в царских палатах, ощущение ночной прохлады в саду Шуйского, предрассветную мглу в кабинете Бориса. Каждая из этих находок отвечала внутреннему смыслу и психологическому содержанию сцены. В «Смерти Иоанна Грозного» подбор деталей создавал удушающее, почти патологическое впечатление надвигавшейся смерти, которое доминировало в сценическом рисунке.
Приблизительно такое же соотношение существовало между трагедией Льва Толстого и горьковскими сценами из быта ночлежного дома. И в той и в другой пьесе Художественный театр отправлялся в слои общества, раньше им не затронутые. Во «Власти тьмы» ни  один самый придирчивый критик не мог бы возражать против правдивости внешнего изображения деревни. Здесь было верно все: и душные избы с маленькими окнами, и стоявшие вдоль рампы скамейки, и грязная после дождя улица, и деревенский двор, и жующие овес лошади. Художественный театр даже в какой-то мере умел себя ограничить и был строг в отборе подробностей. Тем не менее спектакль оставался мертвым не только из-за того, что актеры, не сумев стать типичными крестьянами, не подымались и до трагической высоты толстовской драмы. (Мы знаем, что Художественный театр даже в «Федоре» невольно приспосабливал психологию действующих лиц к психологии своих современников, и это не мешало обаянию спектакля.) Во «Власти тьмы» дело было в отсутствии внутренней связи между внешним режиссерским и внутренним актерским рисунком. Они шли параллельно, не связываясь между собой. Картины деревенской жизни были сами по себе, переживания действующих лиц в чем-то оставались чуждыми актерам МХТ, как остались чуждыми, по существу, и толстовские идеи. Обнаружилось, что далеко не все области жизни и далеко не все жанры были подвластны МХТ.
один самый придирчивый критик не мог бы возражать против правдивости внешнего изображения деревни. Здесь было верно все: и душные избы с маленькими окнами, и стоявшие вдоль рампы скамейки, и грязная после дождя улица, и деревенский двор, и жующие овес лошади. Художественный театр даже в какой-то мере умел себя ограничить и был строг в отборе подробностей. Тем не менее спектакль оставался мертвым не только из-за того, что актеры, не сумев стать типичными крестьянами, не подымались и до трагической высоты толстовской драмы. (Мы знаем, что Художественный театр даже в «Федоре» невольно приспосабливал психологию действующих лиц к психологии своих современников, и это не мешало обаянию спектакля.) Во «Власти тьмы» дело было в отсутствии внутренней связи между внешним режиссерским и внутренним актерским рисунком. Они шли параллельно, не связываясь между собой. Картины деревенской жизни были сами по себе, переживания действующих лиц в чем-то оставались чуждыми актерам МХТ, как остались чуждыми, по существу, и толстовские идеи. Обнаружилось, что далеко не все области жизни и далеко не все жанры были подвластны МХТ.
В горьковской же пьесе все элементы спектакля слились воедино. Вникая в быт легендарного Хитрова рынка, театр понял не только внешнюю сторону босяцкой жизни, но и тот смысл, который вкладывал в ее раскрытие Горький. В первой же картине «Дна» уходящие вглубь нары, нависший потолок, лохмотья, едва пробивающийся свет, вздохи, покряхтывания серой массы людей, привычный ритм их жизни, внезапно вспыхивающие ссоры – все подчинялось общей атмосфере, полной своеобразной поэтической музыкальности. Так обнаруживалось, что воспроизведение быта не всегда вскрывает смысл жизни, что выбор деталей должен быть обусловлен внутренней жизнью действующих лиц и что прием сам по себе бессмыслен вне определяющего его принципа.
Этому научил театр Чехов. Если приемы, допущенные в «Царе Федоре», могли казаться свойственными только этой постановке, то в чеховских спектаклях общие принципы режиссуры стали предельно ясны, хотя не все дальнейшие постановки театра осуществлялись в этих счастливо найденных приемах. В первые годы в театре боролись две линии: порой театр оставался лишь в рамках верного подражания жизни, как было в «Венецианском купце», порой же тонко и зорко вскрывал внутреннюю музыкальность пьесы, ее социальную, бытовую и психологическую атмосферу.
Но вне зависимости от результатов каждая постановка приносила расширение режиссерских приемов. В «Антигоне», осуществленной уже в первый сезон, приближая зрителя .jpg) к восприятию античной трагедии и погружая его в атмосферу древней Эллады, режиссура отменила занавес – задолго до провозглашения этого приема новаторским. «Потонувший колокол» и «Снегурочка» заставили искать новые средства сценической выразительности в области фантастики Наряду с обогащением внутреннего содержания, театр ревизовал и привычные театральные «сказочные» приемы. В «Снегурочке» режиссура обнаружила неистощимую фантазию, вводя ранее неизвестные технические трюки. Пробуждение весны в «Снегурочке», гроза и дождь в первой картине и рассвет в сцене заговора Брута в «Юлии Цезаре» делались с покоряющим совершенством.
к восприятию античной трагедии и погружая его в атмосферу древней Эллады, режиссура отменила занавес – задолго до провозглашения этого приема новаторским. «Потонувший колокол» и «Снегурочка» заставили искать новые средства сценической выразительности в области фантастики Наряду с обогащением внутреннего содержания, театр ревизовал и привычные театральные «сказочные» приемы. В «Снегурочке» режиссура обнаружила неистощимую фантазию, вводя ранее неизвестные технические трюки. Пробуждение весны в «Снегурочке», гроза и дождь в первой картине и рассвет в сцене заговора Брута в «Юлии Цезаре» делались с покоряющим совершенством.
Часто однако, захваченный новизной задачи, театр преувеличивал удельный вес найденного приема. Тогда солнечные лучи или шум ветра увлеченно обыгрывались режиссером, получая самодовлеющее значение в структуре спектакля. Но в последующих постановках эти же приемы занимали подчиненное место, включаясь в необходимую «атмосферу», порою обращаясь в поэтическое – пространственное и музыкальное – воплощение сценического пейзажа; в «Иванове» заглохший, вечереющий, исчезающий в наступавшей мгле парк гармонировал с потрескавшимися колоннами старого, запущенного барского дома.
Многое в первом представлении «Чайки» было несовершенно; в «Трех сестрах», в «Вишневом саде», в «Иванове» театр оказался гораздо более значителен и тонок. Тем не менее именно «Чайка» произвела потрясающее и освежающее впечатление на зрителя, открыв путь к новым принципам построения спектакля, к воплощению сценическими средствами чеховской стилистики. МХТ разгадал мнимую несценичность пьес Чехова. Применительно к пьесам Чехова ходячим был упрек в отсутствии действия и ролей. «Вишневый сад» при первом чтении даже в Художественном театре вызвал недоумение: привыкших к Чехову и любивших Чехова актеров оттолкнула его «бессюжетность», хотя пьеса только развивала и утончала как будто знакомые приемы. До Чехова действие обычно понималось в качестве единой четко развивающейся интриги. В любой чеховской пьесе заложено много драм, одновременно сосуществующих, и их непривычная многоплановость раздражала зрителя и актера, не укладываясь в обычную арифметику драматургии и требуя сценической разгадки.
Действие чеховских драм следовало искать в чем-то другом – не в изменах, выстрелах, дуэлях, смертях. В «Дяде Ване» есть неудавшаяся любовь Сони, ухаживания Астрова за Еленой Андреевной, любовь Войницкого к ней, выстрел Войницкого в профессора, разрыв и отъезд. В «Иванове» жена узнает об измене мужа, умирает от чахотки, муж женится на молодой, кончает самоубийством. В «Трех сестрах» есть именины, дуэль, пожар; отчетливо проступают три драматургические линии (Маша – Вершинин – Кулыгин, Ирина – Тузенбах – Соленый, Наташа – Андрей – Протопопов), каждой из которых было бы достаточно для построения самостоятельной традиционной драмы, и она не возбудила бы упрека в бездейственности. Но пьесы Чехова производили впечатление несценичных. Чехова упрекали в отсутствии ролей, хотя в его пьесах мы встречаем сложные, индивидуально очерченные характеры; достаточно вспомнить историю Нины Заречной, появляющейся в первом действии скромной провинциальной девушкой, мечтающей о сцене, а в последнем – неудачливой актрисой, сломленной «чайкой», обманутой любовницей. Только внимательный взгляд Немировича-Данченко и богатая режиссерская фантазия Станиславского заставили актеров и зрителя понять природу чеховского изображения характеров.
